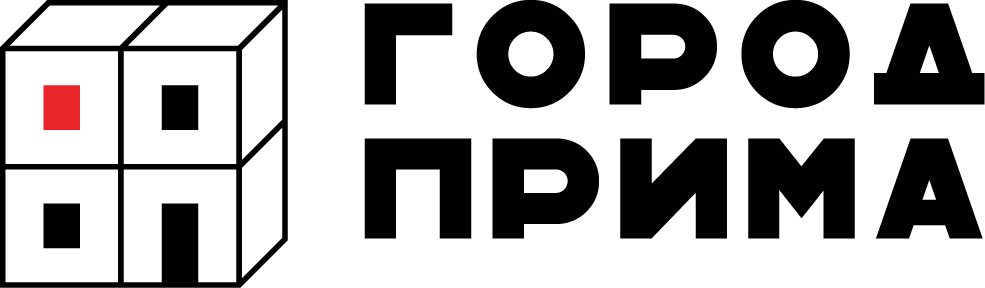- Наши герои
Линор Горалик: «Сказка — это проективный тест»
Интервью о новой книге, взрослом страхе перед сказками и детских чувствах

Автор фотографии — Ольга Паволга
Зачем говорить с детьми о сложных книгах по-взрослому и почему взрослые боятся читать детские сказки? Об этом, а ещё о зимней Венеции, предчувствии войны, детских чувствах и фигурах умолчания мы поговорили с Линор Горалик, которая недавно представила свою новую книгу «Холодная вода Венисаны» на Красноярской ярмарке книжной культуры, которую организовал Фонд Михаила Прохорова.
Мы знаем вас как автора поэтических и прозаических текстов, интервьюера, художника, редактора, исследователя костюма. Как у вас возникло желание написать сказку?
Первая моя детская сказка — «Мартин не плачет», про слона Мартина — написалась совершенно неожиданно для меня: приболела моя подруга, Катя Андреева, я спросила, что я могу для нее сделать, и она сказала: «Расскажи мне сказку». Я села и за один вечер написала первую сказку про Мартина и Дину. Это было прекрасное чувство — написать текст для кого-то, сделать кому-то хорошо. Но в результате Мартин начал жить у меня в голове, и довольно быстро стало ясно, что их с Диной историю придется дописывать. С книгой «Агата возвращается домой» история была другая: у меня жила в голове мысль про девочку, которая поймала в лесу бесенка, и я в какой-то момент поняла, что мне надо избавиться от этого сюжета, выговорить его, понять до конца: я справилась с этим тоже за один вечер, но это был очень тяжелый вечер. С «Агатой и Королем беды» все было похоже: Король беды просто пришел ко мне в какой-то момент, и с ним пришлось справляться. Тут одним вечером дело не ограничилось, но все закончилось довольно быстро, и я была счастлива избавиться от этого существа.
А вот с «Венисаной» ситуация принципиально другая. Два года назад я оказалась лауреатом премии Бродского за поэзию. Это была огромная честь для меня, а кроме того, я получила невероятный подарок — три месяца жизни в Италии: два месяца в Риме и месяц в Венеции. И я увидела Венецию такой, какой её почти не видят туристы, потому что очутилась там в декабре. Венеция в декабре показалась мне прекрасной и страшной: ледяной, сияющей, черной, блистательной, живой, бесчеловечной.
Каменной.
Каменной, кружевной, прозрачной, темной. И у меня начала возникать история про этот подводно-надводный мир — с гигантскими чайками и их кровавыми каплями на клювах, с черными каналами, по которым почти никто не плавает в это время года и к которым из-за холода мне было страшно подойти близко, с лабиринтами, с величием и тайной.
География сыграла свою роль.
Огромную и совершенно неожиданную для меня, потому что я очень плохой путешественник: я, увы, крайне нечувствительна к архитектуре и к пресловутой ауре города, для меня путешествие — это взаимодействие с мелочами и с языками. Венеция — это, может быть, первый город, который я почувствовала костьми, может быть, из-за холода и необходимости много ходить по холоду пешком (я очень теплолюбивое животное).

Я не читала вашу книгу, не очень хорошо ее знаю. Но знаю, что в ней есть необычное пространство — Венисана.
Не страшно, я расскажу. Венисана — это мир, в котором живет девочка Агата. Топографически он устроен так: представьте себе высотку МГУ; теперь представьте себе, что снизу к ней приклеена вверх ногами еще одна высотка МГУ и опущена в воду — причем вся конструкция немного, на 12°, накренена влево, так, что часть верхней высотки тоже затоплена водой. Теперь представьте себе, что все это находится внутри стеклянной сферы. Это и есть Венисана — только про сферу читатель пока не знает (но скоро узнает, может быть, уже во второй книге), и не знает, что вся Венисана имеет размеры примерно крупного елочного шара (и не узнает).
Если бы вы рассказывали о вашей книге мне, девушке 29 лет, и мальчику 13 лет, вы бы по-разному рассказали о ней?
Совершенно одинаково.
Взрослым часто кажется, что дети не поймут сложных книг, что им нужны добрые истории про единорогов. Нужно ли ограждать детей, например, от страшных сюжетов, историй в книжках?
Мне-то кажется, что наоборот, но тут надо сказать очень важную вещь (простите, я говорила ее раньше в других интервью, но у меня есть правило обязательно ее повторять): я не верю в существование единой массы «детей», все дети очень разные, ровно, как и все взрослые. Я пишу, мне хочется думать, для таких детей, которым прямой разговор о страхе важен. Важен вот почему: я часто думаю о том, что ребенок живет в эмоциональном мире, ничем не отличающемся от мира взрослых: те же страсти, те же большие эмоции, только у ребенка, в отличие от взрослого, нет никакого инструментария, чтобы со всем этим справляться. Нет даже того элементарного жизненного опыта, который взрослому, в конце концов, говорит: «Ты дожил до этого момента? Переживешь его и доживешь до следующего. Если тебя не убили предыдущие события твоей жизни, то и эта, дай бог, не убьет». У ребенка нет и этого, не говоря уже о реальном инструментарии, позволяющем переменить обстоятельства своей жизни: встать и уехать в другой город, встать и выйти из своей семьи, встать и переменить «работу» — школу, сад (за редчайшими исключениями).
Даже при самых поддерживающих, понимающих и слушающих родителях ребенок зачастую ничего этого не может, он — заложник своей ситуации. И при этом никто еще и всерьез не говорит с ним о больших страстях: вдобавок ко всему взрослые очень часто отказывают ребенку в признании его чувств. Например, мы обесцениваем любовь ребенка, если это не любовь к маме с папой и братику с сестричкой, а любовь романтическая: мы омерзительным образом почему-то считаем детские любови, например, «умилительными». Это стыдно и безжалостно с нашей стороны. Мы считаем смешными детские разрывы отношений, потому что «ну дети же ссорятся», но ведь они чувствуют то же самое, что чувствуем мы, когда ссоримся со своими близкими, только они еще хуже умеют не делать друг другу больно и еще хуже умеют проживать то, что получилось. Мне кажется, что с ребенком нужно и можно говорить о страстях точно также, как мы это делаем с другом, если не больше, и я привела только один, очень небольшой, пример.
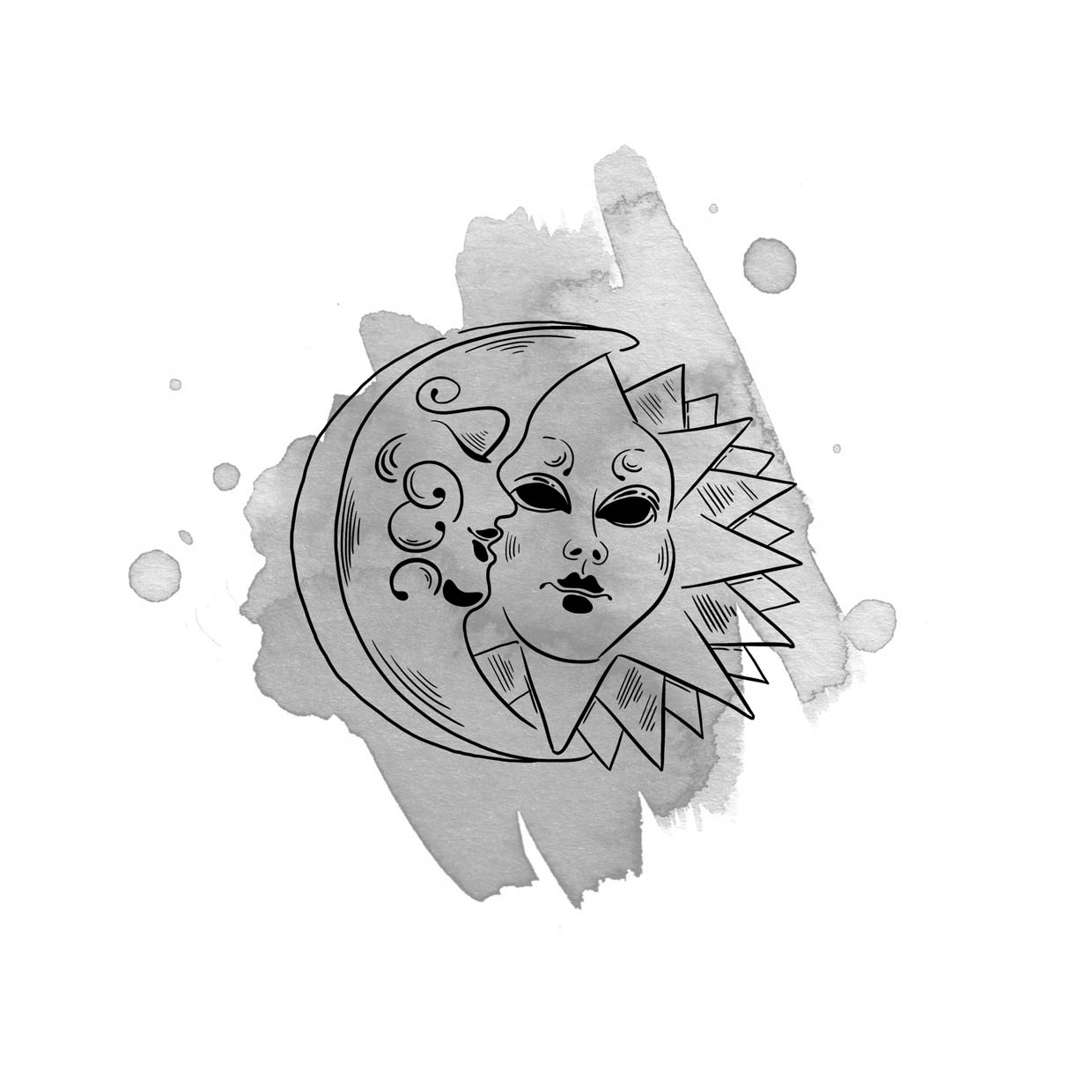
Недавно мы с подростком 13-ти лет мы посмотрели фильм «Оно» по Стивену Кингу 2017 года, и это был потрясающий опыт, потому что оказалось, что фильм со страшным клоуном с пометкой 16+ был важной отправной точкой для разговора про наши страхи, про дружбу, про первую влюбленность, про взрослых, которые молчат и про детей, которые действуют.
Знаете, ведь это касается не только фильма «Оно». Есть, например, гуманистический подход, который говорит: «Ну, зачем мы заставляем пятнадцатилетних читать „Анну Каренину“? Какое им может быть дело до мучений мужа Анны по поводу того, как именно он должен ее простить или не простить?» Мне кажется, что для многих детей этот подход — не очень-то гуманистический: он говорит, что ребенок не поймет разговора о больших страстях, потому что они — исключительная принадлежность мира взрослых. Но есть ребенок (и тем более — пятнадцатилетний, практически взрослый человек), который отлично понимает, что это такое — любить другого человека, видеть, как он ускользает у тебя из рук, знать, что ни ты, ни он ничего не можете с этим поделать, и чувствовать, что непрощение сожжет и погубит твою душу. Если попробовать говорить про «Анну Каренину» с пятнадцатилетними из этой перспективы, она, может быть, станет одной из по-настоящему важных книг в их жизни, но для этого надо сойти со взрослой табуреточки и перестать обесценивать чувства тех, кто сидит перед тобой в классе. Я ни на секунду не считаю, что это легкая задача, я просто думаю, что было бы очень здорово, если бы мы, взрослые, пытались ее решать — хотя бы ради некоторых детей.
Получается, что произведения искусства, будь то фильм, книга, может быть пространством проживания того, что внутри на полном серьезе, точно так же, как и для взрослых.
Мне правда так кажется. Другое дело, что есть еще одна причина, по которой взрослые часто не хотят давать ребенку ту или иную книгу, мне кажется: они сами не хотят потом о ней говорить, не хотят отвечать на вопросы. Это в высшей степени понятно и нормально, просто, мне кажется, раз так, то не стоит лукавить, когда мы пытаемся определить, кого именно мы огораживаем и оберегаем.
Я знаю эту слабость за собой, и еще как, даже на очень маленькой шкале (а каково должно быть родителям или профессиональным учителям!): я веду время от времени занятия детского читательского клуба. Дети семи-десяти лет заранее читают небольшой текст, и мы его обсуждаем — как взрослые. Так вот, во-первых, я знаю, что отбираю тексты, про которые мне будет не слишком-то трудно говорить, и ругаю себя за это, но даже с текстами «полегче» разговоры эти бывают очень непростыми.
Вот пример: обсуждаем «Все лето в один день» Бредбери. Я спрашиваю: «Как вам кажется, за что дети посадили девочку в чулан?» Мы довольно быстро выясняем, дети, конечно, очень неправы, но девочка, может быть, тоже не очень молодец, раз не дает им забыть, что она — единственная, кто видел солнце. Но повод ли это запирать человека в чулан? Ребята, пришедшие на занятие, все как один хорошие котики: «Нет, не повод!» Быстро приходим к теме преступления и равносильного ему наказания, и вот я предлагаю детям: «Давайте поставим мысленный эксперимент. Представьте себе, что вы идете, а двое детей бьют третьего. Что вы будете делать?» Хорошие котики немедленно начинают реагировать в силу своих возможностей: кто-то говорит, что немедленно побежит за помощью, кто-то — что вмешается сам, все предсказуемо. «Хорошо, — говорю, — теперь представьте себе, что третий ребенок — это кто-то, кого вы очень не любите. В остальном все то же самое: двое бьют этого третьего, что делать?» Пауза. Тогда я говорю: «Котики дорогие, эту паузу взять назад нельзя, вы понимаете?» И стараюсь объяснить, что в нашей воображаемой ситуации ничего не изменилось, что ж теперь молчать? Тут что-то из детей говорит: «Может, его за дело бьют!» Я говорю, что, может, и предыдущего за дело били… Словом, какое-то время мы довольно продуктивно обсуждаем ситуацию, и тут одна ангелического вида девочка говорит: «Я обязательно вмешаюсь, а потом еще позову взрослых и обязательно тех двух детей прогоню!» И только я открываю рот, чтобы сказать, какой она молодец, как ангелическая девочка заканчивает: «…а потом сама эту козу добью». Все мои силы в этот момент уходят на то, чтобы уследить за собственными лицом и голосом, я очень осторожно говорю: «Машенька, ты, видимо, имеешь в виду какую-то очень конкретную девочку, но обычно ведь ты ее не бьешь, правда? Она тебе не нравится, но ты справляешься какими-то другими способами?». Машенька смотрит на меня и говорит: «Ну, обычно она сильная, а тут она уже ослабнет». И ты понимаешь, что в некотором смысле это невыносимо комично, но если ты засмеешься — ты предатель, наверное.
Я сказала, что для начала я ей очень сочувствую, если какой-то человек делает ей так больно, что его хочется побить. И что я знаю, каково это — вот такое чувствовать внутри себя, и что это как боль, и я ее понимаю. А потом добавила, что лично я для себя когда-то решила, что бить людей не хочу, что это то самое неправомерное наказание; что вот лично для меня ударить человека можно, только если он физически на тебя нападает, но все равно — я понимаю, как ей больно и трудно. И мне от этой истории было дурно три дня, потому что я не понимала, справилась я или нет; а я что — я не учитель, не родитель, ко мне просто пришли детки и ушли детки. Я хорошо представляю себе, каково родителю: дал трудную книгу, и это потом твоя обязанность — говорить. Осудить человека за нежелание в это ввязываться невозможно.
Недавно мы с подругой говорили о том, что взрослые не хотят, бояться читать сказки потому, что часто сказки — про взросление, а это оказывается для взрослых какой-то сложной зоной и для чувств и для осмысления.
Недопроговорённой темой иногда, мне кажется, — даже для тех, кто годами в терапии. Она, безусловно, недопроговорена у меня, несмотря на годы терапии. Но есть, мне кажется, в сказке еще один момент, который может отпугнуть взрослого (да и ребенка тоже): сказка — пространство, заранее предназначенное для интерпретации, и это требование «додумать самому» тут часто выдвигается жестче, чем во многих других текстах (с такой безжалостностью, мне кажется, иногда действует только поэзия); сказка — априорный проективный тест, а результат проективного мышления часто бывает неприятным — ты начинаешь думать о том, о чем долго и тщательно старался не думать.

У вас — авторская сказка. А я недавно слушала лекцию антрополога Светлаевы Адоньевой для психологов, в которой она, в частности, говорила, что нельзя так просто взять и прийти со своей интерпретацией, с условным Фрейдом, со своим миром в фольклорные сказки. В них — хтонь, они очень глубоко и очень давно связаны с деревенской культурой, отличной от городской. Там и темный лес, и густая трава, которая растет в огороде, и шуршащий в ней заяц, который пугает в ночи.
Есть огромная научная традиция интерпретации сказки, противоречивая и сложная, но мне всегда хочется сказать, что у сказки есть еще одно важнейшее измерение: развлекательное. Хорошая сказка захватывает, в хорошую сказку ты проваливаешься, хорошая сказка — это потрясающий эскапистский мир, и это дорогого стоит.
Что может прожить человек, провалившись в ваш мир Венисаны?
Мне трудно судить, потому что сказка — это проективный тест и для автора тоже (как и любой авторский текст, конечно). Но я могу попробовать понять, про что «Венисана» для меня.
Вы можете про это говорить?
Да. Я недавно говорила, что «Венисана» во многом о том, как ребенка учат не доверять интуиции, потому что так ребенком легче манипулировать («манипулировать» тут не обязательно ругательство, ребенком важно манипулировать, направлять его, иначе он не выживет). Скажем, ребенок чувствует, что в доме происходит плохое, ему говорят «нет-нет-нет» или «отстань», а потом сажают на диван и сообщают, что мама с папой разводятся. Тут некого винить и все наверняка хотели, как лучше, но получилось то, что получилось.
«Венисана» для меня, среди прочего, про предчувствие войны, — как израильтянка я, конечно, очень чувствительна к этой теме. Агата оказывается в типичной для ребенка ситуации: о войне никто не говорит с детьми, и когда ей кажется, что она (ценой героических поступков) делает страшное открытие, — будет война! — и кричит об этом на площади, никто не удивлен. Ее страшным открытием оказывается именно это: взрослые — оберегающие и любящие ее взрослые — давно все знают о войне, и она воспринимает это как чудовищное предательство. Что приводит нас к важной и печальной теме: то, что с детьми в России сегодня, кажется, почти не говорят о политике, очень печально. Не то чтобы у меня была идея, как решать эту проблему, но я всё больше и больше думаю про «Новости для детей» — только не знаю пока, как их делать.

Это созвучно. Мне кажется, вокруг нас было и остается много фигур умолчания про сложные, проблемные вещи. В семье, в школе, в культуре, везде-везде. Людям очень не хватает честности и открытости. Как будто они бояться, что от проговаривания им будет больно, страшно, поэтому давайте создадим какую-нибудь красивую картинку про жизнь как для детей, так и для самих себя, и будем в ней жить.
Мне кажется, мы оказались в опасном месте: если я все правильно понимаю, где присутствует умолчание, там возникает невроз. Был короткий период в истории страны, двадцать с небольшим послеперестроечных лет, когда общество пыталось вести откровенный разговор о собственной истории, — и вот мы опять пришли туда, куда пришли.
Не так давно мы с проектом «Букник» обратились к читателям, прося рассказать, что у них дома рассказывали о Великой отечественной войне, и получили двести с лишним ответов; они стали книгой «Лишь бы жить», которую сейчас можно бесплатно скачать на «Амазоне». Я редактировала эти тексты, и когда ее закончила, у меня тряслись руки и я была в слезах, — это, может быть, один из самых страшных текстов, с которыми мне доводилось встречаться, потому что в Советском Союзе, с его незамолкающим пропагандистским бубнежом «о войне», о настоящей войне молчали или кричали во сне. И вот с нами опять начинает происходить все то же самое.
И еще, мне кажется, противоречие в том, что внешне мы живем в очень мирное время. У нас есть читалки, кофе, теплые пуховики, у родителей есть развивашки, книжки, успешные родительские блоги, возможность заказать классный детский комбез через интернет. Но мне кажется, что мы уже живём на войне.
Я совсем не знаю, что делать с этим раздвоением сознания. Ну, вот можно писать вторую часть «Венисаны», про детей и войну. Вот я попробую начать в декабре.
Поделиться